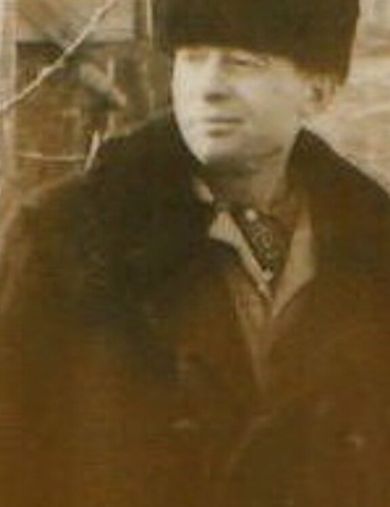
Алексей
Давыдович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Мой папа Жабин Алексей Давыдович труженик тыла.. в 1941 г ему было 15 лет, но он уже имел стаж рыбака ловца 2 года. Вместе со своим отцом Давыдом Алексеевичем рыбачил в море с 13 лет, неоднократно попадали под бомбежку. Так погибли при обстреле семьи Свекольниковых, Шердаковых и др. Колхоз "Каспиец", где работал Жабин, в 1946 г получил Красное Знамя Государственного Комитета обороны на вечное хранение, которое хранится в Лаганском музее. Так был оценен труд рыбаков в войну
Воспоминания
Повзрослели за войну наши мамы и папы
Хочу рассказать о своих родителях - уроженцах поселка Лагань Нижне-Волжской области (позже Астраханская область, еще позже - Калмыцкая АССР). Я родилась через 10 лет после войны, но хорошо помню рассказы моей мамы Марии Александровны Жабиной (в девичестве Тюриной) и папы – Алексея Давыдовича Жабина. В 1941 году им исполнилось по 13 и 15 лет. В сегодняшнем нашем понимании это были дети-подростки, но выпавшая на их долю военная суровость сделала вмиг их зрелыми и возмужалыми: этакие ребята со взрослыми лицами и привычками, когда не было ни времени, ни сил цацкаться с ними – спрашивали со всех по законам военного времени. У Алексея к этому времени уже был двухлетний стаж рыбака. С 13 лет вместе со своим отцом Давыдом Алексеевичем, ловцом колхоза «Каспиец», бороздил на промысле Северный Каспий. Испытал шторм, ледяной ветер… Быстро из мальчишки «подай-принеси» превратился в настоящего ловца. Так что к 1941 году он уже числился в штате колхоза. Рыбаки в войну имели бронь, так как надо было снабжать фронт продовольствием. И Алексей трудился наравне со взрослыми. Позже он вспоминал: «Конечно, и тяжело, и страшно было. Хотя в детстве, в юности страх не так ощущаешь, как в солидном возрасте. Отчаянность, безрассудность, ребячья смелость толкали вперед. Мы сознавали, что там, на фронте, куда тяжелее. А мы все-таки в тылу…» Но не совсем спокойно было в море. Мой папа вспоминал, как нет-нет, а «заглянут» фашистские истребители. Их рев был слышен задолго до прилета. А где на море спасаться? Разве что в ледяную воду нырять? В море, на рыбацких станах работали и по месяцу, и по два. Во время налетов потонули судно Лаганской МРС (моторно-рыболовная станция) «Фурманов» с командой; плавзавод, нефтеналивные баржи. При бомбежке погибли рыбаки - супруги Свекольниковы Иван Михайлович и Васена Фетотовна, семья Шердаковых – муж, жена и их девятилетний сын. Многие рыбаки нашли последний приют в пучинах моря. Но, как только затихало, снова все вставали на рабочие места. Я пытала отца: «А помнишь рыбаков? Назови их имена». - Это были люди, как бы сейчас их назвали, семижильные,- вспоминал отец.- Как не помнить: Герман Быков, Александр Бабичев, Иван Кантемиров, Петр Зубков, Иван Головков, Никифор Ефремов, Альмухан Хайрлиев, Панфил Баркалов… В районном музее г. Лагани Республики Калмыкия есть особый ценный экземпляр исторического значения. В 1946 году колхозу «Каспиец» было вручено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение. Так высоко был оценен самоотверженный труд рыбаков колхоза в годы Великой Отечественной войны. А Мария, моя мама, в это время работала на полях. В овощесовхозе она и еще несколько ее подружек были «гектарницами» - так называли тех, кто брал на себя гектар земли и обрабатывал ее с нуля до съема урожая. Это ее и еще двух подруг сразу после войны наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». - Не было у нас детства, но мы понимали: идет война, пришлось бросить учебу в школе,- вспоминала мама.- Нужно было и матери помогать (старший брат Николай ушел воевать в 17 лет, оставались еще двое младшеньких Виктор и Екатерина), и на хлебушек зарабатывать. Самое горькое воспоминание – все время хотелось есть. Ну что там 250 граммов хлеба на день? Выручала все-таки нас рыба, а летом овощи. Приходилось и мамалыгу есть. Это не каша из кукурузной муки с молоком, как принято у молдаван, это была каша непонятно из чего: основа – отруби (остатки после обмолота зерна) с добавлением какой-нибудь травы и приправленной рыбьим жиром. Вместе со своей мамой, моей бабушкой Анной Ивановной Тюриной (ее все называли Нюрочкой), ходили пешком в Астрахань (расстояние сейчас по асфальтовой дороге 180 км) менять рыбу на муку, крупу; речь о сахаре даже не шла. Хорошо, если кто подвозил на подводах (телегах). На ночлег стучались в селах в дома, никто не отказывал, время такое было: сегодня ты поможешь кому-то, завтра тебе посодействуют. А обратно, из Астрахани, бывало, на товарняках по железной дороге умудрялись доехать до станции Улан Хол. А это уже почти дома – всего 40 километров. Сегодня я понимаю: наши матери – великие женщины. Мама вспоминала: где-то осенью 1942 года многие рыбаки были разбронированы для доукомплектования 110-й ОККД (отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия). Кем заменить ловцов? Женщинами и подростками. И на неводный лов шли эти слабенькие молодые девушки и их матери. Называла фамилии – Кантемирова, Фомина, Зубкова, подростки Лопарев, Липин. Например, Антонина Ковалева (Короткова) была рулевой на моторной рыбнице. - Я до сих пор удивляюсь,- говорила моя мама ,- что немецкие самолеты, пролетая над нами, ни разу не сбросили ни одной бомбы на Лагань. Все «стервятники» летели море бомбить. И мы слышали эти взрывы. И, каждый раз, когда они проносились, молились и прятались. И часто повторяла: «Мы хоть голодали, но страха такого сильного, как при бомбежках в других городах, не испытывали. Бог нас миловал». - Мам, а помнишь День Победы? В ее голубых глазках сразу вспыхнули искорки. - Конечно, этого никогда не забыть. Это был будний день. Мы работали в поле. Мне уже было чуть больше шестнадцати. Кто-то прискакал на лошади и закричал: «Девчата, завершай работу. Победа!». Мы оторопели, но тут же побросали лопаты, тяпки: «Ты не врешь? Правда, победа? Война закончилась?». И побежали. На территории колхозного рынка собралось много народу – в основном женщины и старики. Оказывается, уже с утра, в 6 часов, Левитан по радио объявил о Победе. Что тут было? Плакали и смеялись, обнимались и целовались, плясали и пели. А кто-то упал в обморок (то ли от радости, то ли от голода, то ли от потери своих близких, которые никогда не узнают о том, что война закончилась). Дома моя мама Анна Ивановна достала праздничную свою юбку и сняла платок, с которым не расставалась все эти годы. Но, как бы опомнившись, вновь одела его на голову. Она шептала: «Коля, сынок, ты где? Ты дожил до Победы?». И заплакала. Мы с Катей и Витей стали ее успокаивать: «Но не было же «похоронки», придет наш Коля». И он пришел – инвалид первой группы, слепой Николай. - А вечером, - продолжала рассказ моя мама, - мы, девчонки, побежали в клуб на танцы. …Нет с нами сейчас ни моего папы, ни моей мамочки. Не стало в нашем Лаганском районе и ветеранов, боевых участников той страшной войны. Всем им мы обязаны нашей Победе. И им, мальчишкам и девчонкам военной поры, быть может, было еще горше, еще страшнее и тяжелее, чем взрослым. Они видели все своими детскими глазами, переживали все ее ужасы. Любовь ГОЛОВКОВА Г. Лагань, Республика Калмыкия
